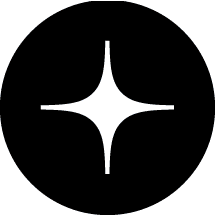Слава безумцам, которые живут, как будто они бессмертны...
Помните: «Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь».
«Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».
«Когда душили его жену, он стоял рядом и все время повторял: «Ну потерпи, может, обойдется!»
“Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать”.
“Лучшее украшение девушки - скромность и прозрачное платьице”.
“Бери, не стесняйся. Я при деньгах. У меня как раз вчера был припадок клептомании”
«Детей надо баловать - тогда из них вырастают настоящие разбойники”.

Это всё цитаты Евгения Шварца, по которым мы безошибочно узнаем людей нашего культурного кода. Пожалуй, это единственное общее, что осталось у русскоязычного мира. Та, киношная «Золушка», «Обыкновенное чудо», «Дракон», «Снежная королева», «Тень» - все это Евгений Шварц.
Какой удивительный, самобытный талант был у этого сказочника, пересочинившего известные детские сказки в философские притчи! Какая потрясающая судьба, перекликающаяся только с Булгаковым. Как «несвоевременны» эпохе революции, войн, ГУЛАГа и соцреализма истории про Волшебника и Ланцелота.
Родился в семье, где из каждого «что-нибудь вышло». Отец - талантливый хирург, крестившийся еврей, «человек сильный и простой, пел, играл на скрипке, участвовал в спектаклях, любил быть на виду. Мать — много талантливее, по-русски сложная и замкнутая».
Одна только строчка биографии “в 1916 г. призван в армию” – не сулит легкой судьбы. 1917 г. Евгений Шварц – юнкер в Москве. (Сколько из этих мальчишек-юнкеров вообще выживет? - единицы. Это про них, друзей и сослуживцев Шварца, напишет Вертинский:
,,Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!"
А дальше Добровольческая армия, Ледяной поход! Тяжёлая контузия при штурме Краснодара, после которой на всю жизнь остался тремор рук и понимание, что один этот факт тянул на неминуемый расстрел. Потом будет разгромлена редакция журнала “Еж” и “Чиж”, где он работал. Расстрелян его заклятый друг Олейников, и большинство ОБЭРИУтов. Сколько выживет из тех, с кем он встретит блокадную зиму в Ленинграде...?
Как восхитительно он умел быть вне времени! В голодном 1919 – романтическая любовь, предложение руки и сердца с прыжком в ноябрьский Дон, прямо в пальто и калошах! Возлюбленная оценила, предложение приняла – в итоге Евгений Львович списал со своей первой жены образ Мачехи. А со второй женой, Екатериной Ивановной Зильбер, он проживет почти 30 лет! Он откажется уезжать в эвакуацию без нее, она будет с ним тушить зажигалки в блокаду «Если убьют, так уж вместе». Ей он посвятит “Обыкновенное чудо” - гимн любви, той самой Хозяйке, любящей сумасбродного Волшебника.
“«Настоящее счастье, со всем его безумием и горечью, давалось редко. Один раз, если говорить строго” (из дневника Шварца)
Не имея возможности взять с собой из блокадного Ленинграда ничего, кроме машинки, он сожжет дневники, весь архив, накопившийся за 45 лет жизни! А сколько упомянутых в них друзей и знакомых к тому моменту будут расстреляны!
«Пишу все, кроме доносов» - немногие в сталинское время могли этим похвастаться. Помните: “Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?»
Этот интеллигентный человек с мягкой улыбкой, робеющий перед служащими и кассирами, обладал тихим, негероическим мужеством. Стеснявшийся получить гонорар, боящийся канцелярий, оказывался удивительно смелым, когда требовали отречься от расстрелянного Олейникова, когда нужна была помощь семье арестованного Заболоцкого.
Когда собрание в Ленинградском отделении Союза писателей прорабатывало Зощенко, и тот сказал: "Что вы от меня хотите? Вы хотите, чтобы я сказал, что я согласен с тем, что я подонок, хулиган и трус? А я — русский офицер, награжденный георгиевскими крестами. И я не бегал из осажденного Ленинграда, как сказано в постановлении — я оставался в нем, дежурил на крыше и гасил зажигательные бомбы, пока меня не вывезли вместе с другими. Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне умереть спокойно". Спустился в зал, в мертвой тишине прошел между рядами.
Д. Гранин вспоминал, что в зале после речи Зощенко стояла гробовая тишина, зааплодировали два человека, один из них - Шварц аплодировал стоя.
Он тоже мог бы сказать и о себе. «Не надо размышлять. Это слишком страшно». («Дракон»). Как только Шварц оправится от блокадной дистрофии, закончит «Дракона» (в самый разгар битвы между Колымой и Освенцимом), в эвакуации, в Сталинабаде. «Уж лучше сказки писать. Правдоподобием не связан, а правды больше». Снова станет вести дневник.
Вот про 1937: «К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас? От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по песчаным, трудным для проезда улицам Разлива медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины из города за местными и приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются».
«Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателей. Мы ели и пили. И смеялись. По рабскому положению, смеялись и над бедой всеобщей — а что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. Затем пронеслись зловещие слухи о том, что замерший в суровости своей комендант надстройки тайно собрал домработниц и объяснил им, какую опасность для государства представляют их наниматели. Тем, кто успешно разоблачит врагов, обещал Котов будто бы постоянную прописку и комнату в освободившейся квартире. Было это или не было, но все домработницы передавали друг другу историю о счастливицах, уже получивших за свои заслуги жилплощадь. И каждый день узнавали мы об исчезновении кого ни будь из городского начальства, то кого-нибудь из соседей или знакомых. Мы в Разливе ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем как лечь, выходил я на улицу. Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы. Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет — не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей."
Позади война, уже написан "Дракон", но никуда не делся ужас, только рассеялся туман иллюзий. "«Страшно было. Так страшно, что хотелось умереть. Страшно не за себя. Конечно, великолепное правило: «Возделывай свой сад», но если возле изгороди предательски и бессмысленно душат знакомых, то, возделывая его, становишься соучастником убийц. Но прежде всего — убийцы вооружены, а ты безоружен, — что же ты можешь сделать? Возделывай свой сад.
Но убийцы задушили не только людей, самый воздух душен так, что, сколько ни возделывай, ничего не вырастет. Броди по лесу и у моря и мечтай, что все кончится хорошо, — это не выход, не способ жить, а способ пережить. Я был гораздо менее отчетлив в своих мыслях и решениях в те дни, чем это представляется теперь. Заслонки, отгораживающие от самых страшных вещей, делали свое дело. За них, правда, всегда расплачиваешься, но они, возможно, и создают подобие мужества.
"Человек, прошедший столько ужасов, не выносил печальных историй, даже пропускал моменты любимых книг, подозревая, что они кончатся плохо.
«Стыдно убивать героев для того, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу» - выговаривает Шварц сочинителям устами Эмилии.
Илья Эренбург охарактеризовал Шварца как «чудесного писателя, нежного к человеку и злого ко всему, что мешает ему жить». Вениамин Каверин называл его «личностью исключительной по иронии, уму, доброте и благородству». Леонид Пантелеев вспоминал: «Я вдруг увидел Шварца вплотную, заглянул ему поглубже в глаза и понял, что он не просто милый, обаятельный человек, не просто добрый малый, а что он человек огромного таланта, человек думающий и страдающий… Был ли он добрым? Да, несомненно, он был человек очень добрый.
Но добряком (толстым добряком), каким он мог показаться не очень внимательному наблюдателю, Евгений Львович никогда не был. Он умел сердиться (хотя умел и сдерживать себя). Умел невзлюбить и даже возненавидеть подлеца, нехорошего человека и просто человека, обидевшего его (хотя умел, когда нужно, заставить себя и простить обиду)». Евгений Львович всю жизнь был окружен друзьями и приятелями, которых притягивал к себе подобно магниту. Многие вспоминали о том, с какой добротой Шварц относился к людям. В 1920-х подбирал беспризорников и с помощью Маршака устраивал в детские дома. Когда был репрессирован Заболоцкий, Шварц, сам постоянно нуждавшийся в деньгах, поддерживал материально жену поэта и двоих его детей. С 1946-го помогал попавшему в опалу Михаилу Зощенко, от которого тогда отвернулись многие. В 1950 году, в разгар «борьбы с формализмом и космополитизмом», из Ленинградского университета выгнали литературоведа, профессора Бориса Эйхенбаума, и Шварц вместе с писателем Михаилом Козаковым (отцом артиста и режиссера Михаила Козакова), драматургом Израилем Меттером (автором сценария фильма «Ко мне, Мухтар!») и актером Игорем Горбачевым (???) приносили безработному ученому сумки с продуктами. Он старался помочь всем, кто в этом нуждался.
Евгения Шварца обожали женщины, дети и домашние животные. Лучших доказательств того, что Шварц был хорошим человеком, не придумать. И, хотя это обстоятельство еще не гарантирует счастья, хороший человек Евгений Шварц прожил очень счастливую жизнь. Он не мог не стать сказочником. Хотя скорее он просто был им с самого начала. Не зря же дети висли на нем гроздьями, где бы он ни появился, задолго до того, как Шварц начал писать сказки. Он умел играть с детьми. Не давя и не унижая, просто быть равным. А еще он умел разговаривать с животными.
В конце сороковых жил у Шварца кот, который не только ходил в туалет на унитаз, но и спускал за собой воду. Друзья, завсегдатаи домов творчества, зубоскалили, что этому и иных членов Союза советских писателей обучить не удается. А случайно оказавшийся в гостях у Шварца известный дрессировщик едва не хлопнулся в обморок. Он отказывался верить своим глазам, настаивая, что кошки не поддаются такой дрессировке в принципе! Дрессировке, может, и не поддаются, но если попросит сказочник...
Его гениальные сказки очень тяжело пробивали себе дорогу. В 20-х сказки и игрушки были сочтены вредными, педагоги попортили жизнь многим талантливым людям. В 1934 году был написан «Голый король» - при жизни Евгения Львовича так и не был разрешен к постановке. «Тень», поставленная Акимовым в 1940 году, шла с аншлагами несколько месяцев, потом запрещена. Первая постановка пьесы «Дракон» в 1944 была закрыта после нескольких спектаклей. Шварцу намекали, что переделки смогли бы сделать пьесу проходной — он не стал переделывать.
1954 год. Григорий Козинцев собирается снимать «Дона Кихота». Несколько часов раздумья — есть только один человек, который сможет написать такой сценарий: «Евгений Шварц — единственный писатель, который писал о добре без сентиментальности!».
«Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут, как будто они бессмертны, - смерть иной раз отступает от них», - написал он в «Обыкновенном чуде».
Здоровье сказочника было, увы, не таким уж сказочным. Шварц перенёс несколько инфарктов. В августе 1957 года, за полгода до смерти, писатель подвел итоги своей жизни следующим, совсем неутешительным и несправедливым образом: «Настоящей ответственной книги в прозе так и не сделал. Я мало требовал от людей, но как все подобные люди, мало и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы, выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это был значок второй степени. Это не подвиг. И перебирая свою жизнь, ни на чем не могу успокоиться и порадоваться. Дал ли я кому-нибудь счастья?..». (Е. Шварц. Дневники.)
Евгений Львович умер в 1958, в 61 год. Мало прожил! А какой талант был…безбрежный…
Интернет
НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ